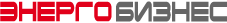Догнать Америку

Евросоюз поставил цель снизить внутренние цены на газ до американского уровня
На евросаммите, состоявшемся 22 мая в Брюсселе, лидеры 27 европейских стран приняли совместное решение о создании в Евросоюзе единого энергетического рынка, в рамках которого должна быть обеспечена свободная торговля газом и электроэнергией на всей территории евросообщества. Основной целью этой реформы названо снижение внутренних цен. Сегодня природный газ обходится европейским промышленникам почти в четыре раза дороже, чем их американским конкурентам, а электроэнергия — в два раза. Однако от провозглашения задачи до ее выполнения пролегает дистанция огромного размера. Прежде чем приступить к реализации своего плана, ЕС придется преодолеть еще немало проблем.
Виктор ТАРНАВСКИЙ
Две стороны Атлантики
"Сланцевая революция" в Америке изменила мировой рынок природного газа до неузнаваемости. Резкое увеличение объемов добычи газа привело к обвалу цен на него в Америке. В крайней точке спада, в апреле 2012 г., спотовые котировки Henry Hub были в 6.5 раза ниже, чем в июне 2008 г., опустившись до около $70 за 1 тыс куб м. При этом, в Европе, где большая часть газа продавалась по долгосрочным контрактам, а его стоимость была связана с биржевыми котировками на нефтепродукты, цены превышали $400 за 1 тыс куб м, а в Японии — $600 за 1 тыс куб м.
Избыток предложения природного газа в США сделал не нужными построенные в стране терминалы для приемки сжиженного газа (LNG). В прошлом году они были загружены всего на 2%, приняв около 4.1 млрд куб м газа. В Атлантическом бассейне появились большие объемы невостребованного LNG, которые были перенаправлены, в основном, на европейский рынок по минимальной стоимости.
Именно благодаря этим поставкам в Европе возник разрыв между высокими контрактными и низкими спотовыми ценами, а российский "Газпром", отстаивающий традиционный ценовой механизм, превратился из надежного партнера в мишень для критики и нападок. Пожалуй, именно нежелание "Газпрома" отказываться от долгосрочных контрактов и сбавлять цены до спотового уровня и стало основной причиной кампании, начатой тогда европейцами против российского газа. Приостановка поставок через Украину в январе 2009 г., судя по всему, была только поводом.
Дешевый и доступный газ стал хорошим подспорьем для американской промышленности, повысив ее конкурентоспособность на глобальном уровне. Этот ресурс стала интенсивнее использовать и энергетика, что привело к острому кризису в американской угледобывающей промышленности, резкому увеличению экспорта угля из США и падению цен на него в мировом масштабе. В Европе дешевый уголь стал вытеснять из энергетической отрасли дорогостоящий газ. На эти процессы наслоились также экономический кризис в ЕС, приведший к сокращению потребления э/э, и бурное развитие альтернативной энергетики, поддерживаемой и субсидируемой правительствами.
В результате, энергетическим компаниям пришлось выводить из строя газовые блоки. Например, французская GDF Suez в 2009-2013 гг. остановила энергоблоки совокупной мощностью 7300 МВт и намерена в ближайшее время добавить к ним еще около 1300 МВт. В целом, потребление газа в ЕС сократилось с 567 млрд куб м в 2010 г. до около 500 млрд куб м в 2012 г.
Тем не менее, совсем обойтись без газа Европа не может. Около 40% его потребления приходится на коммерческие компании и домохозяйства, применяющие его для отопления, нагрева воды и приготовления пищи. Газ широко используется в различных отраслях промышленности, причем заменить его нечем, а вопрос о возможном переходе на уголь или солому в Европе даже не ставится. По-настоящему широкое использование биомассы в качестве источника топлива возможно сегодня только в богатой лесными ресурсами Швеции.
По данным за ноябрь 2012 г., европейские промышленники, использующие 0.9-1 млн куб м природного газа в год, получали его по цене от EUR239 за 1 тыс куб м в Румынии и EUR286 в Великобритании до почти EUR500 в Германии и EUR843 — в Дании. В большинстве стран ЕС котировки находились на уровне около EUR400 за 1 тыс куб м. Это примерно в четыре раза выше, чем платят американские промышленные потребители. Тарифы на э/э в ЕС, в среднем, также вдвое выше, чем в США.
Относительная дороговизна энергии в Европе уже давно вызывает беспокойство у компаний, представляющих такие энергоемкие отрасли как химическая, цементная, целлюлозно-бумажная, металлургическая промышленность. Уже отмечены случаи перенесения производственных мощностей из европейских стран в США. Особенно серьезным этот фактор выглядит в свете проходящих в настоящее время переговоров о создании трансатлантической зоны свободной торговли между США и ЕС. Европейские компании, приобретающие газ и э/э по значительно более высоким ценам, окажутся в случае взаимного открытия границ в заведомо проигрышном положении.
В последние несколько месяцев ряд европейских отраслевых ассоциаций открыто поставили вопрос о необходимости снижения стоимости энергии в ЕС до американского уровня. В частности, металлургическая ассоциация Eurofer заявила, что высокие тарифы делают отрасль неконкурентоспособной в мировом масштабе и могут привести к закрытию значительной части сталелитейных и прокатных мощностей и ликвидации десятков тысяч рабочих мест.
С очень эмоциональным заявлением выступила в конце апреля 2013 г. Конфедерация европейских производителей бумаги (CEPI). Предприятия отрасли удовлетворяют 40% своих потребностей в энергии за счет природного газа, который обходится им в десятки миллионов евро в год. Чтобы решить эту проблему, руководство CEPI предложило Европейской комиссии план из шести пунктов. В нем предусмотрены такие меры, как: создание единого европейского газового рынка; отказ от прежней системы ценообразования на рынке газа, привязанной к нефтяным котировкам; обеспечение свободного перетока газа по всей Европе; более интенсивное использование внутренних ресурсов; приобретение более дешевого газа на мировом рынке; снижение налогов и дополнительных платежей, например, на субсидирование альтернативной энергетики. Кроме того, CEPI предлагает выставить США предварительное условие: если американцы хотят создания зоны свободной торговли с Европой, они должны разрешить поставки своего относительно дешевого газа на европейский рынок.
Проблеме высоких цен на природный газ был посвящен евросаммит, состоявшийся 22 мая в Брюсселе. По его итогам европейские лидеры приняли совместный план, в котором предложены пути решения этой непростой задачи.
Единый газовый рынок
Всего этот план содержит четыре пункта. Первый — это дальнейшее стимулирование энергоэффективности, которая, по мнению европейских лидеров, все еще имеет значительный потенциал. Правда, это больше относится к снижению объемов потребления газа и э/э, а не к их стоимости.
Ключевое значение в плане ЕС имеет второй пункт. Главы государств ЕС декларируют намерение превратить все 27 стран ЕС в единый энергетический рынок с общими правилами игры. Это предлагается сделать уже в 2014 г., а в 2015 г. в ЕС не должно остаться ни одной страны, которая бы не была подключена к общей электрической и газовой сети. Как заявил президент Европейского совета Херман ван Ромпей, благодаря интеграции европейские потребители смогут экономить до EUR30 млрд в год.
Чтобы реализовать этот план, в него включен пункт третий — инвестиции. До 2020 г. в создание соответствующей инфраструктуры и проведение НИОКР предполагается вложить около EUR1 трлн. Львиную долю этих средств должен дать частный сектор. Поэтому ЕС нужна более долгосрочная и предсказуемая политика в области энергетики и борьбы с неблагоприятными климатическими изменениями. С этой целью будет проведен новый евросаммит в марте 2014 г., а Еврокомиссия обещает подготовить к нему "конкретные предложения" по энергетической и климатической политике до 2030 г.
Наконец, четвертый пункт плана направлен на увеличение количества альтернативных источников энергоресурсов для Европы. По словам Хермана ван Ромпея, ни одна европейская страна не имеет права полагаться на единственного поставщика или единственный маршрут поставок природного газа. Кроме того, европейские страны должны полностью использовать свой внутренний потенциал. Под этим понимается как всемерное поощрение развития альтернативной энергетики, так и стимулирование добычи сланцевого газа. Каждая страна будет сама решать, какие энергоносители она будет использовать, но сланцевый газ вполне может стать одним из источников.
"Энергетическая политика ЕС должна обеспечить безопасность надежных и стабильных поставок для домохозяйств и компаний по доступным и конкурентным ценам, — отмечается в итоговом документе. — Это особенно важно для обеспечения конкурентоспособности Европы в условиях растущего энергопотребления в ведущих странах и высоких цен и затрат на энергию".
Обозреватели рассматривают принятие этого документа как успех Еврокомиссии, которая давно выступает за проведение единой европейской энергетической политики. Создание единого регионального энергетического рынка может подразумевать, что отдельные государства ЕС должны будут отказаться от части своего суверенитета в пользу Брюсселя в части проведения энергетической политики, хотя, согласно Лиссабонскому договору, этот вопрос относится к компетенции национальных правительств.
Теперь Еврокомиссия имеет право требовать, чтобы страны ЕС как можно скорее приступали к гармонизации своего энергетического законодательства, по крайней мере, полностью реализовывали на практике положения "третьего пакета". Также следует ожидать и новых попыток Брюсселя воздействовать на двусторонние соглашения, заключаемые отдельными странами с поставщиками газа. Некоторые обозреватели уже предвкушают, как Еврокомиссия будет выкручивать руки "Газпрому", требуя от него принятия европейских стандартов и одинаковых условий поставок для всех стран ЕС.
Создание единого европейского рынка газа вполне соответствует тенденциям, наблюдаемым в последнее время в странах региона. Так, например, идет процесс объединения различных площадок по торговле природным газом, что в перспективе должно привести к созданию действительно общеевропейского спотового рынка. Так, с 29.05.13 г. начала работу торговая система PEGAS, объединяющая энергетические биржи European Energy Exchange (EEX) и Powernext. Она дает возможность проводить торговлю спотовыми контрактами и деривативами на природный газ на нидерландском хабе TTF, немецких площадках NCG и Gaspool, французских PEG Nord, PEG Sud и PEG TIGF.
В середине мая к созданию единого восточноевропейского рынка природного газа призвали премьер-министры Польши и Чехии. В соответствии с обнародованным проектом, предлагается создать региональную сеть газопроводов, соединяющую государства "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) с Австрией и Словенией. В качестве основного источника поставок газа поляки предлагают использовать строящийся LNG-терминал в Свиноуйсце мощностью 7.5 млрд куб м в год, который должен вступить в строй в июне 2014 г. Польская газотранспортная компания Gaz-System к тому времени рассчитывает завершить прокладку газопроводов общей протяженностью около 1000 км и стоимостью EUR1.95 млрд, которые свяжут терминал с сетями Чехии и Германии. А в феврале т.г. польское правительство заявило, что инвестирует еще EUR1.1 млрд в новые трубопроводы, по которым газ с LNG-терминала можно будет отправлять в Чехию, Словакию и Украину.
Хоть Украина и не является членом ЕС, тем не менее, возможность ее присоединения к создаваемому единому европейскому рынку газа будет изучаться и обсуждаться. С одной стороны, такой вариант выглядит достаточно привлекательным. Включение украинской ГТС в единую европейскую сеть позволит Украине получать газ из различных источников, причем по спотовым европейским ценам. Кроме того, теоретически возникнет возможность пересмотра контракта 2009 г. с "Газпромом" или, в перспективе, заключения нового в 2019 г. на кардинально иных условиях. Принятие европейского энергетического законодательства даст возможность упорядочить отечественные рынки газа и э/э и установить "цивилизованные" правила игры. Наконец, благодаря добыче сланцевого газа Украина сама сможет стать его экспортером (хотя на самом деле это будут осуществлять Shell и Chevron, которые и будут получать основные доходы и прибыли).
С другой стороны, проект единого европейского энергетического рынка не дает ответа на ряд важных практических вопросов. Указанные в нем очень сжатые сроки (2014-2015 гг.) выглядят нереальными, да и вообще вся конструкция может остаться только на бумаге.
Гладко было на бумаге
Прежде всего, сомнения вызывает способность европейских стран так быстро привести к общему знаменателю национальное законодательство, регулирующее рынки газа и э/э. Условия везде разные, и даже далеко не все страны ЕС пока реально ввели в действие пресловутый третий пакет. Также не все готовы отказываться от проведения самостоятельной энергетической политики в пользу Брюсселя. Например, против увеличения полномочий общеевропейских структур последовательно выступает Великобритания.
Возможно, речь, скорее, идет о создании общеевропейской системы спотовой торговли природным газом и разработке неких общих правил игры, которые позволили бы оперативно организовывать трансграничные поставки. В этом случае для конкретных потребителей останутся те же условия приобретения газа, определяемые на национальном уровне.
Однако здесь возникают свои проблемы. Во-первых, это инфраструктура. Лидеры ЕС явно поторопились, заявляя о готовности соединить все страны региона сетями газопроводов и линий электропередачи уже к 2015 г. Строительство разнообразных интерконнекторов ставится в ЕС на повестку дня, как минимум, с начала 2009 г., но только недавно в этой области начались хоть какие-то подвижки. Основная проблема заключается в том, что финансировать эти проекты приходится на государственном уровне, так как для частных компаний, управляющих европейскими газопроводами, эти перемычки, использующиеся обычно только в чрезвычайной ситуации, просто не выгодны с коммерческой точки зрения. Лишних же денег сейчас у ЕС, переживающего сильнейший экономический кризис, просто нет.
Вопрос о триллионе евро частных инвестиций до 2020 г. вообще повисает в воздухе. Европейский энергорынок сегодня выглядит весьма нелогичным и непредсказуемым. Правительства стимулируют производство дорогостоящей альтернативной энергии, из-за чего фактически дискриминируются крупные энергокомпании, эксплуатирующие традиционные энергоблоки, которые в последнее время становятся все менее востребованными, однако совершенно необходимы в качестве резервных. Вместо газа все шире применяется дешевый уголь, однако Еврокомиссия неоднократно высказывалась против использования этого "грязного" энергоносителя.
Не понятно также, кто и из каких источников должен инвестировать средства в создание новой инфраструктуры и за счет чего обеспечивать прибыльность этих капвложений.
Иными словами, электроэнергия и газ сейчас выглядят для инвесторов далеко не самыми привлекательными отраслями. Да и вследствие кризиса объем частных инвестиций в европейскую экономику резко сократился. По некоторым данным, с 2007 г. по 2012 г. падение этого показателя составило около EUR350 млрд в год. Чтобы привлечь требуемые средства, правительствам придется гарантировать инвесторам высокий уровень рентабельности, что не совсем соответствует провозглашенной цели — снижению цен на газ.
Но даже если властям ЕС удастся организовать постройку соединительных газопроводов, это еще далеко не все. Конечно, восточноевропейская компания может выгодно приобрести газ по спотовой цене, скажем, на голландской площадке TTF или в британской системе NBP, но как организовать реальные поставки? По оценкам аналитика Platts Уильяма Пауэлла, хранить или транспортировать природный газ стоит примерно в 30 раз дороже, чем нефть, поэтому в действительности поставки будут все равно осуществляться по традиционным маршрутам.
Сегодня, по данным Reuters, только около 35% газа в Европе продается по спотовым контрактам. Причем крупнейшим продавцом, работающим на таких условиях, является норвежская компания Statoil. Как объясняет основатель британской консалтинговой компании Kingston Energy Найджел Харрис, Statoil согласилась перейти на спотовые принципы ценообразования лишь при условии, что ее клиенты подпишут с ней "негибкие" контракты, согласно которым они обязуются ежедневно приобретать в течение года одни и те же объемы природного газа. Сверхплановые же поставки оплачиваются совсем по иным ценам. Так что не факт, что это выгоднее для покупателей, чем долгосрочные контракты с возможностью регулировать объемы закупок по дням.
Более того, в последнее время спотовые котировки на европейском рынке постепенно сближаются с ценами по долгосрочным контрактам, которые вычисляются на основе "нефтяных" формул. В марте 2013 г., когда Европу накрыла волна холода, газ на споте вообще стоил дороже, чем продавал "Газпром". В Великобритании в отдельные дни спотовые котировки на газ подскакивали выше $660 за 1 тыс куб м.
Объясняется это, прежде всего, резким сокращением поставок в Европу дешевого сжиженного газа. В 2012 г. импорт LNG в страны ЕС составил всего 60.2 млрд куб м, что примерно в два раза меньше, чем в 2010 г. Средний уровень загрузки терминалов упал до 31%. Практически все поставщики LNG стараются ориентироваться на азиатский рынок, где цены на 40-50% выше, чем в Европе, а такие страны как Япония, Корея, Китай и Индия, как ожидается, будут в обозримом будущем наращивать закупки. В 2014 г., когда завершится реконструкция Панамского канала, суда-газовозы смогут переходить из Атлантического океана в Тихий, что должно вызвать усиление азиатского направления. Да и практически все проекты экспорта американского и канадского сжиженного газа ориентированы не на ЕС, а на Восточную Азию. Хотя, по иронии судьбы, дальше всех продвинулся проект строительства завода по газификации на Атлантическом побережье.
Не станет для европейцев панацеей и сланцевый газ. Во-первых, он дорогой сам по себе. Даже в США, где он добывается, как правило, в пустынных, малонаселенных районах, и при отсутствии серьезного контроля со стороны экологических органов, его себестоимость, судя по всему, составляет не менее $250 за 1 тыс куб м. В Европе уровень затрат может оказаться значительно выше, да и отношение общественности к добыче газа посредством закачивания в пласты миллионов литров воды с химикатами весьма неоднозначное. Даже с поддержкой Еврокомиссии очень сомнительно, что сланцевый газ может превратиться в весомый фактор на региональном рынке — по меньшей мере, до 2020-2025 гг.
Поэтому ни создание общего рынка газа, ни стремление диверсифицировать поставки не принесут европейским странам желанного снижения цен до американского уровня. Да, рынок природного газа становится все более глобализированным, а ценовые контрасты на нем сглаживаются. Но это означает, что средний уровень стоимости газа будет, скорее всего, где-то между нынешним европейским и японским, т.е. около $400-450 за 1 тыс куб м. Конечно, при условии, что в Европе не произойдет полного вытеснения газа из электроэнергетики альтернативными источниками и углем. И не следует забывать о том, что нынешние низкие спотовые цены на газ в ЕС, составляющие $340-350 за 1 тыс куб м, вызваны, в первую очередь, экономическим кризисом.
Более того, цены на газ в США тоже постепенно подтягиваются к европейскому уровню. В конце мая текущего года котировки на Henry Hub достигли $150 за 1 тыс куб м и продолжают постепенно подниматься. По мнению аналитиков, к концу года они могут достичь $200 за 1 тыс куб м, и это, скорее всего, еще не предел. Так что преимущество американских промышленников перед европейскими конкурентами будет сокращаться. Другое дело, что в США, как правило, меньше разница между биржевой ценой и стоимостью газа для конечных промышленных потребителей, чем в ряде европейских стран, но это уже вопрос к национальным регуляторам.
Таким образом, план создания единого европейского рынка на самом деле практически не имеет никакого отношения к реальным ценам на газ и э/э в ЕС. Да, стимулирование конкуренции благодаря внедрению общерегиональной торговой системы, вероятно, даст некий эффект в виде снижения цены для конечных потребителей — на единицы процентов, в лучшем случае. Скорее всего, источником этой инициативы следует считать стремление Еврокомиссии получить как можно больший контроль над энергетической политикой стран ЕС и максимально либерализировать рынки газа и э/э. Выиграют ли от этого в конечном итоге потребители — вопрос спорный.