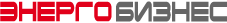Переломный год

Мировой ТЭК: итоги 2015 года
Завершившийся 2015 г. можно охарактеризовать как переломный для мирового топливно-энергетического комплекса. Возникшие либо окончательно оформившиеся в прошлом году тенденции, вероятно, будут определять рыночную ситуацию в секторе на многие годы вперед. Прежняя экономическая модель, просуществовавшая на протяжении конца 90-х годов и первых полутора десятилетий XXI века, уходит в прошлое, а на ее место приходят совсем другие процессы.
Виктор ТАРНАВСКИЙ
Эра дешевых ресурсов
Падение мировых цен на нефть и сжиженный природный газ началось еще в 2014 г., но в 2015-том пришло четкое понимание того , что этот процесс представляет собой долгосрочную тенденцию. Безусловно, удешевление нефти до минимальной отметки более чем за одиннадцать лет в начале января текущего года в условиях нарастания напряженности на Ближнем Востоке активизировало различные конспиративные теории о регулируемом мировом рынке и преднамеренном снижении котировок, однако следует признать, что этот спад основан на объективных экономических факторах.
Прежде всего, нефти на рынке действительно слишком много, и ее не станет меньше в обозримом будущем. Несмотря на падение цен до уровня ниже себестоимости для многих месторождений, ни государственные, ни частные нефтегазовые компании не сбавляют оборотов. Конечно, всеобщее снижение добычи с целью ограничения объемов предложения и поддержки котировок было бы выгодным для всех участников рынка. Однако даже робкие попытки согласованных действий на протяжении 2015 г. потерпели провал.
Когда-то работу по поддержанию рыночного баланса брали на себя страны ОПЕК, но эта деятельность полностью сошла на нет еще в начале "нулевых" годов. Осенью 2008 г. международный картель в последний раз выступил на рынке как единая сила, приняв решение о резком сокращении квот. Но тогда кризис имел шоковый характер: всем было понятно, что через некоторое время спрос восстановится, что и произошло к 2010 г. Сейчас же спад на мировом рынке нефти имеет структурный, долгосрочный характер. Тот, кто уступит сейчас, потеряет долю рынка очень надолго. Поэтому уступать не хочет никто, а финансовое положение основных участников мировой нефтегазовой отрасли пока достаточно прочно, чтобы пережить первый год низких цен.
Судя по всему, "очистка" рынка от слабейших игроков не начнется и в течение текущего года, так что объем предложения нефти на мировом рынке останется избыточным. В целом баланс несколько улучшится за счет сокращения добычи в США и прекращения ее роста в Ираке и Саудовской Аравии, но это будет компенсировано ожидаемым возвращением на мировой рынок иранской нефти.
Впрочем, падение нефтяных котировок в 2014-2015 гг. лишь отчасти объясняется избытком предложения. Основная причина заключается в неблагоприятном состоянии мировой экономики. Ее мотором на протяжении двух десятилетий был рост потребления в западных и новых рыночных странах, за счет которого непрерывно расширялись мощности китайской промышленности и резко увеличивалось потребление ресурсов.
Сейчас эти факторы больше не действуют. Наоборот, в силу многих причин, как государства, так и их население (если не считать узкой прослойки самых богатых) становятся беднее, из-за чего они вынуждены сокращать расходы и меньше потреблять. Соответственно, значительная часть производственных мощностей, созданных в период бума, оказалась избыточной. Кризис перепроизводства, вернее, недопотребления охватил многие отрасли, а не только нефтегазодобычу.
В принципе, запустить новый механизм глобального экономического роста можно. Но для этого надо, например, вернуться к политике 50-70-х годов, когда государства были ведущими игроками в экономических процессах, осуществить глобальное перераспределение доходов от финансового сектора в реальную экономику и от корпораций к государству и населению, запустить новые глобальные проекты, в частности, в рамках китайской инициативы Великого шелкового пути.
Очевидно, рассчитывать на такие перемены в обозримом будущем сложно. Поэтому, судя по всему, в ближайшие годы в мировой экономике будет продолжаться депрессия, политическая и военная напряженность будет нарастать, а цены на нефть и сжиженный природный газ (LNG) останутся низкими, пока не произойдет выравнивание спроса и предложения "естественным" путем. То есть добыча нефти и газа пойдет на спад из-за сокращения инвестиций в создание новых мощностей, а некоторые компании, обанкротившись, просто выйдут из игры. Но даже после восстановления баланса, котировки и близко не подойдут к показателям времен подъема 2010-2013 гг. вследствие относительно слабого спроса.
Для Украины, как импортера энергоносителей, дешевизна нефти и газа могла бы стать благоприятным фактором, но в нынешней ситуации она, скорее всего, не сможет им воспользоваться. Промышленность, которая могла бы получить выигрыш благодаря доступным энергоносителям, приходит в упадок. От интеграции в рамках СНГ, которая даже в текущих условиях создала бы базу для подъема, киевские власти сами отказались, а на прочих рынках украинская продукция не очень то востребована.. Если в ближайшее время ничего кардинально не изменится, Украина обречена на роль того самого слабого игрока, который покинет рынок, чтобы освободить на нем место для более успешных участников.
Энергетическая перезарядка
В мировой электроэнергетике в 2015 г. продолжалось усиление влияния на отрасль климатической политики. Состоявшаяся в первой половине декабря прошлого года в Париже конференция ООН по климату завершилась принятием декларации, в которой было заявлено о необходимости борьбы с глобальным потеплением посредством ограничения эмиссии углекислого газа. В течение ближайших нескольких лет различные страны мира будут вводить в действие свои национальные климатические планы, в которых, как правило, предусматривается расширение доли возобновляемых источников в генерации электроэнергии и снижение доли угля.
Цены на энергетический уголь на мировом рынке в 2015 г. упали до самого низкого уровня с 2005 г. и, по мнению большинства экспертов, котировки еще не достигли дна. Основными причинами сокращения стоимости угля специалисты называют сужение импорта в Китае и Индии, а также уменьшение использования этого ресурса в энергетике западных стран, однако ситуация на самом деле неоднозначная. Как показал прошлый год, мировой рынок энергетического угля находится под влиянием противоречивых тенденций.
Снижение объема закупок угля китайскими и индийскими компаниями имеет разную природу. В Китае в прошлом году наблюдалась, прежде всего, стагнация спроса на электроэнергию, обусловленная спадом в национальной промышленности. При этом многие угольные энергоблоки в стране имеют "приличный возраст" и сильно загрязняют окружающую среду. Не удивительно, что власти стимулируют их закрытие и замену на более "чистые" источники энергии, а с целью поддержки национальной угольной промышленности ограничивают импорт низкокачественного угля, который ранее поставлялся в Китай, в основном, из Индонезии.
В Индии уменьшение потребностей в импортных ресурсах объясняется, прежде всего, расширением собственного производства. В декабре 2015 г. крупнейшая национальная компания Сoal India Limited (CIL), на долю которой приходится более 80% национальной добычи, превысила показатель аналогичного периода годичной давности на 9%. По итогам 2015/2016 финансового года (апрель/март) CIL планирует добыть 550 млн т угля, а к 2020/2021 финансовому году довести объем производства до 1 млрд т в год. Таким образом, спрос на уголь в Индии будет расти, но удовлетворяться он будет, в основном, за счет внутренних ресурсов.
Вообще, в азиатских странах, несмотря на их заявления о поддержке борьбы с глобальным потеплением, уголь остается приоритетным энергоносителем. Помимо Индии, широкомасштабные проекты строительства новых угольных мощностей разрабатываются и осуществляются во Вьетнаме, Индонезии, на Филиппинах. Высокую активность сохраняют китайские компании. Причем в их инвестиционных портфелях находятся не только более 150 новых угольных энергоблоков в самом Китае, но и многочисленные проекты за рубежом, в частности, в рамках концепции Великого шелкового пути. Японские и корейские корпорации собираются строить в других странах угольные энергоблоки, использующие новейшие ультрасуперкритические технологии с повышенной эффективностью и меньшими удельными выбросами углекислого газа на единицу мощности.
При этом уголь в Азии однозначно выигрывает конкуренцию у сжиженного природного газа. Темпы роста глобального спроса на LNG в обозримом будущем, очевидно, окажутся намного ниже ожидаемых. Это уже привело в 2015 г. к появлению значительного избытка предложения на рынке и падению мировых цен даже безотносительно к стоимости нефти. Между тем, в ближайшие несколько лет в Австралии, Северной Америке и других регионах должны войти в строй новые крупные заводы по производству LNG. Так как в цену этого ресурса обязательно включаются постоянные расходы на сжижение, перевозку и регазификацию, цена на LNG останется относительно высокой, а значительная доля производственных мощностей — невостребованной.
Газ в прошлом году оказался конкурентоспособнее угля только в США, где цены на газ "рухнули" из-за избытка предложения, а затраты угольных ТЭС увеличились вследствие ужесточения экологических нормативов. В то же время, в Европе, в частности, где правительство Великобритании вообще заявило о полном отказе от использования угля при выработке электроэнергии к 2025 г., а немецкие власти намерены добиться той же цели в более долгосрочной перспективе, газовые блоки сокращают выработку еще быстрее, нежели угольные, под давлением со стороны привилегированного сектора альтернативной энергетики.
Обстановка в секторе возобновляемой энергии также выглядит достаточно противоречивой. С одной стороны, она пользуется поддержкой правительств и высокой популярностью среди инвесторов. Во многих странах расширение установленных мощностей солнечных и ветровых станций происходит высокими темпами. В прошлом году сообщалось о достижении значимых результатов в области "хранения" электроэнергии. При этом широкомасштабное использование мощных аккумуляторных батарей с целью сглаживания пиков и спадов нестабильных возобновляемых источников представляется ключевым фактором для развития альтернативной энергетики.
С другой стороны, несмотря на все победные реляции, возобновляемый сектор пока не в состоянии избавиться от двух своих основных недостатков — дороговизны и нестабильности. Поэтому солнечные и ветровые станции, как правило, усиленно строятся и субсидируются лишь в тех странах, где их совокупная доля в общей генерации невелика и не превышает единиц процентов. При достижении определенной "критической массы" начинают значимо проявляться проблемы возобновляемой энергетики, что объясняет снижение или прекращение поддержки этого сектора во многих европейских странах еще в 2013-2014 гг.
Хотя всевозможные "зеленые" лобби мощно продвигают альтернативную энергетику в различных странах, как правило, уровень ее развития в большинстве государств остается относительно скромным. Электроэнергетика, основанная преимущественно на солнце и ветре, будет, очевидно, весьма дорогостоящей, сложной в управлении и зависимой от передовых технологий, освоенных пока что только в западных странах. И переход на эту систему в мировом масштабе, несмотря на весь накал борьбы с глобальным потеплением, пока не представляется решенным делом.
Украина в 2015 г., по большей части, находилась вне процессов глобальной электроэнергетики, занятая своими проблемами. С одной стороны, в национальной энергетической отрасли нет благополучных секторов. ТЭС находятся под перманентной угрозой исчерпания запасов угля, у АЭС уже начались проблемы, вызванные хронической нехваткой средств на реконструкцию, а украинская энергетическая система плохо приспособлена для работы в изолированном состоянии. Выручает украинских энергетиков только падение внутреннего спроса на электроэнергию, которое, очевидно, продолжится и в текущем году. Но это не тот фактор, которому стоит радоваться.